Они росли под гул сирен-3
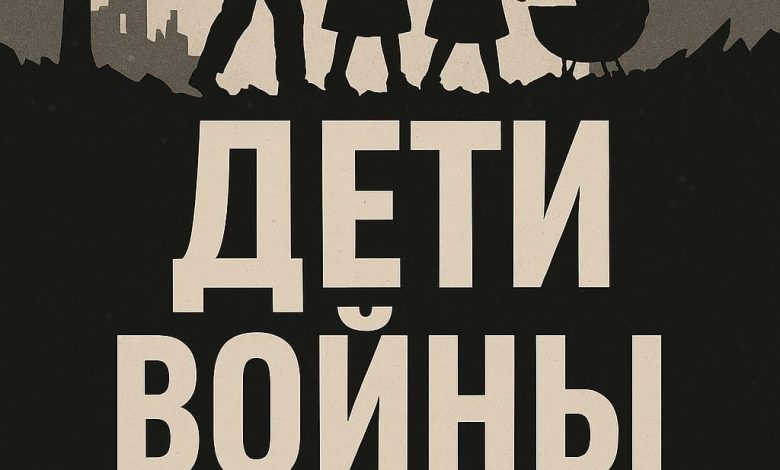
Истории из жизни, которые нам рассказывают, это не всегда просто слова. Иногда это боль, пронесённая через годы. А ещё – сила, которой хватило, чтобы не только выжить, но и остаться человеком. «ПК» продолжает рубрику «Дети войны», приуроченную к 80-летию Победы. И пусть торжественные даты уже позади, у редакции ещё остались герои, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной, и о которых стоит рассказать.
«Мама шила мне фуфайку из папиной формы»
Раиса Тарабрина родилась здесь, в Гурьеве, в 1935 году. Её семья переехала из Тамбовской губернии (ныне Тамбовская область), спасаясь от голода.
– Во время революции мои родители приехали из Тамбова с тремя детьми. Здесь была надежда: говорили, рыбы много, можно прокормиться. Уже после переезда родилась я и ещё младший братишка. В итоге – пятеро детей. Тяжело, конечно, когда много ртов, но мама со всеми старалась справляться, – вспоминает собеседница. Когда началась война, ей было всего пять лет. Но даже в этом возрасте жизнь диктовала свои правила – работать, терпеть, помогать.
– Кто-то таскал ветки для отопления, кто-то поднимал боевой дух раненым в госпиталях – стихами, песнями, просто добрым словом. Каждый действовал, как мог. Жили многие бедно. Хлеб выдавали по карточкам: детям – 200 граммов, взрослым рабочим – полкило. Но чтобы получить даже одну буханку, нужно было простоять в очереди весь день. А бывало, что хлеба и вовсе не было – то муку не подвезли, то пекарня сломалась, то дорогу замело. Одежды тоже не хватало. Ходила в старых сапогах, мама шила мне фуфайку из отцовской формы. Он работал капитаном на судне – им давали спецодежду. Вот и перешивали. С помощью карточек давали нам ещё мыло, крупы. Но этого было мало. Мыло было размером со спичечный коробок, – рассказывает Раиса. По ее словам, самые страшные периоды были зимой.
– Летом было чуть легче: рыбы в Урале было много – ловили, сушили, солили. Иногда обменивали её на крупу или овощи – лук, тыкву, кукурузу. Что-то удавалось вырастить самим. Мы, дети, помогали взрослым – залезали в чаны, врытые в землю. Это были большие деревянные бочки, куда складывали рыбу для засолки. Оттуда доставали старую партию и загружали новую. Работа тяжёлая, но выбора не было. А вот зимой – совсем другое дело. Голодно. Картошку, если удастся достать, делили на несколько семей. Почти весь рацион – это только рыба: на завтрак, обед и ужин. Она всех спасала. Иногда я пробиралась на консервный завод за рыбьими головами, которые выбрасывали. Его охраняли, но я всё равно шла. Брала четыре-пять голов, укладывала в мешок и тащила на плечах домой.
День Победы она помнит до сих пор – как дети бегали из дома в дом, как радостные крики доносились с улиц, как в редких домах, где было радио, ловили последние известия. Тогда, в мае 1945-го, они ещё не всё понимали, но сердцем чувствовали: произошло что-то великое.
После войны трудовая жизнь началась для Раисы Тарабриной рано – уже в десять лет она начала помогать милиции. Фактически выполняла обязанности осведомителя: наблюдала за теми, кто приезжал в город, кто уезжал, что продавалось на базаре, и передавала эту информацию участковым. Такая помощь была важной: шла борьба с перекупщиками, спекулянтами, и даже дети могли внести свой вклад.
За это её благодарили – порой дарили пару рыбёшек или щепотку дорогого индийского чая. Этот чай она потом продавала на базаре: мерила его маленькой ложечкой, рассыпала в пакетики – так зарабатывала для семьи. Кроме того, Раиса помогала приезжим – подсказывала, где можно снять жильё. Часто именно к ней подходили с этим вопросом. А ночью она шла осматривать окрестности, наблюдала, где горит свет, где собираются люди. Если замечала что-то подозрительное, сообщала правоохранителям.
– В 14 лет я работала на молочном комбинате – стояла за двумя станками, пекла вафельные стаканчики для мороженого. Потом устроилась нянечкой в ясли – это был детский сад в обычном жилом доме. Всего одна группа, а детей – больше 40. Если кто-то из коллег заболевал, приходилось подменять всех подряд – и заведующую, и завхоза. Помню, как повар просил помочь с продуктами: если чего не хватало, шла за ними сама. За лошадью с телегой нужно было записываться заранее – её давали только раз в месяц. А в остальное время – мешки с хлебом, бидоны с молоком – всё на плечи, и пошла пешком около двух-трёх кварталов.
После яслей Раиса устроилась в ещё один местный детский сад. Там она проработала около десяти лет. Но с возрастом обязанности становились всё тяжелее, а жизнь по-прежнему не щадила. Следующим местом её работы стала стройка – ТЭЦ третьей очереди, куда она пошла, работать уже взрослой женщиной в 1970-х годах. Там случилось то, что изменило её судьбу – серьёзная производственная травма. Она упала с лесов. Травма оказалась тяжёлой – лопнула матка: ей поставили вторую группу инвалидности. Врачи запретили поднимать тяжести, рекомендовали отказаться от физического труда и даже не советовали рожать. Повреждения были серьёзными, восстановление – долгим и болезненным.
– Я ничего не могла делать. Сначала дали вторую группу, потом – третью, а потом и вовсе сняли инвалидность, хотя мне всё равно запрещали работать в тяжелых условиях, – вспоминает Раиса.
Но жизнь на этом не остановилась. Ещё до той трагедии она успела создать семью. Однако вскоре мужа не стало, и на её плечах остались двое детей, пожилая мама и младший брат. Работать по состоянию здоровья она не могла, но жить как-то было нужно. Тогда снова пришла в ТЭЦ. К счастью, её выслушали.
– Для меня нашли место в котельном цеху – уборщицей. Работа была тяжёлая, горячая, но выбора не было. Коллеги старались поддерживать: кто воду принесёт, кто мешок поднимет, кто мусор вынесет. Так, понемногу снова начала вставать на ноги. Вообще, пережито было немало: голодное детство, труд с малолетства, потеря здоровья, одиночество… Судьбы детей войны – это не просто истории. Это уроки стойкости, ответственности и человеческого достоинства, которые не устареют никогда, – завершила рассказ наша собеседница.
«Раненых было очень много…»
Ещё одна жительница Атырау Вера Широкова годы войны вспоминает как трудные, голодные и полные тревог. Она родилась в Гурьеве в 1937 году, в семье, где мать одна поднимала троих детей. Свой угол им так и не достался – приходилось переезжать с квартиры на квартиру, скитаться по знакомым. Работала её мама в швейной мастерской, где вместе с другими женщинами шила фуфайки, шапки и обмундирование для фронта. О войне в доме напоминало всё – от пустой кастрюли до пыльной коробки с обрезками ткани.
В шесть лет наша собеседница с подружкой бегала в эвакогоспиталь, который располагался в здании бывшей школы имени Куйбышева – на том месте, где сейчас размещается компания «ҚазТрансГаз Аймақ».
– В Гурьев поездами привозили раненых солдат, эшелоны разгружались у самого завода Петровского – сейчас это место в районе улиц Марата Темирханова и Махамбета Утемисова. Летом бойцов везли на телегах, зимой – на деревянных санях или волокушах через лёд. Мы тоже помогали: кто приносил марлю, кто – старое постельное бельё, простыни, пододеяльники. Медсёстры просили нас резать бинты, подержать раненого за руку, рассказать сказку, спеть песню. И мы пели. Раненые ждали нас, встречали с улыбкой. Медикаментов остро не хватало, что могли, приносили из дома. Особенно врезался в память день, когда прошёл слух, что снаряд или бомба от немецкого самолёта упал рядом с резервуарами, наполненными горючим. В случае попадания последствия были бы катастрофическими. К счастью, снаряд пролетел мимо и никому не причинил вреда, – вспоминает героиня.
Несмотря на все тяготы, Вера Широкова с благодарностью говорит о тех, кто помогал выжить:
– Например, казахские семьи делились последним. У кого был скот – привозили мясо, шерсть. Женщины вязали варежки, носки, тёплые вещи. Никто не стоял в стороне.
«Мы отдавали лошадей на фронт»
О помощи вспоминает и Жолдаскали Омирбаев, родившийся в 1939 году. Их семья жила в степи, как и многие казахи в те годы, держали скот, выживали своим трудом. Война пришла и туда – оторвала мужчин от юрт, оставив женщин, детей и стариков наедине с заботами и холодом.
– Мне было всего два года, когда настало страшное время. Мама одна вела хозяйство, ухаживала за скотом, а по вечерам вязала носки для солдат. Мы помогали, чем могли: гоняли телят, ловили ягнят, возвращали скот с пастбища. Взрослым было тяжело, но и дети рано узнали, что такое труд. Старшая сестра работала в магазине и занималась отправкой товаров. Помню, мы отдали двух лошадей на нужды фронта – об этом даже писали в районной газете. Позже нашей семье пришло благодарственное письмо. Не помню, чтобы мы когда-либо были сыты. Кормились, чем придётся: корешками, дикими растениями. А мясо берегли как сокровище, – рассказывает Жолдаскали ага.
Сегодня тех, кто помнит войну не по книгам, а по звуку сирен воздушной тревоги, остаётся всё меньше. И рассказы детей войны – это не просто воспоминания, а живые свидетельства того, как на хрупкие детские плечи легла тяжесть тех лет.
Георгий ШАПОШНИКОВ
Фото сгенерировано ИИ





