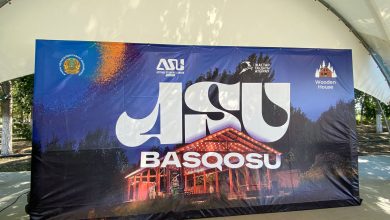Специалисты и обычные атыраусцы предлагают различные способы решения профилактики камышовых пожаров. Ветеран санитарно-эпидемиологической службы Атырауской области Александр Думлер сделал акцент на трех составляющих. Каких именно?
— Почему происходят пожары? Я, конечно, не специалист в сфере МЧС и в области пожаротушения. И все же для меня проблема горения камыша в дельте Урала знакома. Видел гурьевские пожары в дельте; горело в нашем городе и в 90-е годы, в ту пору я работал главным санврачом города.
В годы моей работы наша организация успешно справлялась с нашествием кровососущих насекомых. Мы тогда тесно и плодотворно работали с коллегами из Астраханской области; часто сам туда ездил. Несколько раз попадал на горение камыша в дельте Волги. Поэтому мне есть с чем сравнить. Причин может быть много, это и браконьеры, и фермерские поджоги.
Раньше горели заболоченные места дельты Урала, природный резерват, и тот же атмосферный заповедник Астраханской области, где практически такие же условия и в природном плане, дельта Волги даже более илистая, развлетвленная. Там условия еще хуже. Когда я наблюдал там ситуацию, то про ущерб природе даже говорить не буду: нерестилища гибнут, икроносность рыбы снижается. Когда я еще работал, были данные о которых наука говорила: на нерест воблы крайне негативно влияют такие пожары, пепел оседает, икра гибнет, все приводит к тому, что снижается вывод рыбы, да не только воблы, и всего живого мира, в том числе птиц. Страдает природа от такого явления.
Есть такой термин — раскатная часть Каспия дельта Волги. Нижняя ее часть, раскатная, где река переходит в Каспийское море. Это я услышал тоже у астраханских коллег, когда мы изучали их опыт дезинфекционной работы против комаров. Они всегда говорили, что так называемая раскатная часть Северного Прикаспия — рай для всего живого, и там, то есть в Астраханской области, причина пожаров в первую очередь от рыбаков и охотников, им нужно максимально расчистить места, для того, чтобы начать вылов и охоту. У нас та же самая история, поэтому раскатная часть, в резервате, наверное, самое уязвимое место в плане природы, и эти пожары больше всего влияют именно на ту часть резервата.
Что нужно делать для профилактики? Вопрос серьезный. В приграничной области я видел оборудованные барьеры. Российские коллеги делали специальные барьеры, земляные рвы, шириной точно не помню, но до пятисот метров, и покрытые сверху солью. На суше это очень помогало от пожаров. Обычно их оборудовали в зимнее время, и еще рвы, и если пожары возникали весной, то это помогало, огонь не расходился на большие территории.
Много в эти дни читал, что пишут люди на тему пожаров в природном резервате. Почему бы нам не подумать об усилении нашего МЧС? Вопрос буквально на поверхности. Создать при департаменте ЧС специальное подразделение для тушения таких возгораний, оснастить соответствующей техникой, обучить персонал, что было бы очень эффективно. Нужно усилить и авиационную группу МЧС. Если не подступиться, все заболочено, и горит, естественно, без специальных вертолетов другого варианта предложить невозможно.
Горит не только у нас: например, в Боровом был пожар. А у нас и так всего 16 процентов площади огромной страны покрыто лесом. Да, это может быть трудно в финансовом плане, но такой подход также следует продумать. Сейчас время принимать самые быстрые меры. А искать виновных должны специальные структуры, правоохранительные органы.
К слову, я немного знаком с работой резервата. Ведомство в свое время, пока свое здание не появилось, арендовало в нашей дезинфекции целый этаж. И в свое время я, как депутат, занимался вопросом базы СКЭБР (Северо-Каспийская экологическая база реагирования на разливы нефти), когда говорили, что она повлияет на экологию. А СКЭБР сколько уже существует? Не всегда все плохо, что предлагается. И в МЧС нужна структура, о которой я уже сказал. Тогда, возможно, это будет тоже действенной мерой, что-то и получится.
Записала Светлана НОВАК
фото Георгий ШАПОШНИКОВА